Часть первая - здесь
Уважаемые читатели, я продолжаю цикл на основе писем Александра Тихоновича Харчикова. Во второй части я предлагаю познакомиться с подробной биографией писателя, которую он подготовил для Дросковской сельской библиотеки (Александр Полынкин)
Моя автобиография
Родился в четыре часа утра 29 февраля 1936 года в Дросковской районной больнице, куда отец, Харчиков Тихон Трофимович, привёз мою маму, Харчикову Степаниду Емельяновну, из Зуёвки, как назывался уголок деревни Харчиковой тогдашнего Внуковского сельсовета, Дросковского – тогдашнего – района Орловской области.
Была у меня ещё сестра – Милитина. Она умерла во время оккупации деревни Харчиковой немцами в декабре 1941 года.
Вероятно, относительно счастливым детство как раз и было до 1941 года. О тех днях сохранились кое-какие воспоминания. Наиболее ярким представляется в памяти случай, когда я едва не утонул в кадке с водой. Отец привёз мне с мельницы ракушку. Видно, кто-то, возможно, мама, сказала мне, что это лодочка. А лодочки плавают…Вот я и, оставшись почему-то один, стал пускать эту лодочку в пожарную кадку с водой. Естественной, бултыхнулся. Кадка была узкая. Развернуться в ней было нельзя. Но я как-то вывернулся, выскочил и заорал. Успокаивать мой крик прибежал дед Герасим – ближайший сосед. Почему я выплыл, когда должен был утонуть? Видно, мой ангел был рядом… Потом он много раз спасал меня от верной гибели. Верю, что это посланец Матушки Пресвятой Богородицы…
Перед оккупацией, где-то в сентябре 41-го – НКВД арестовало отца. Вероятно, потому, что он в первую мировую был в плену, работал у «бауэра», как он рассказывал, в Австрии, и немного говорил по-немецки… От самого момента ареста помню молодого мужчину в военной форме, который застрелил нашу собаку из винтовки и дал мне ещё тёплый патрон. Блестящий… Бронзовый… За отца, что ли, которого они увели…Или от доброты душевной. Возможно ведь, что он был добрый человеком, выполнял приказ.
Как уводили отца, не помню.
Возвратился мой Тихон Трофимович вскоре после начала оккупации. Получил от «органов» задание то ли вступить в партизанский отряд, база которого должна была бы будто бы располагаться в Кочетковом лесу под Дросковом, то ли создать такой отряд.
И то, и другое было понятно, глупостью несусветной. Потому что площадью лесок этот ничуть не больше Гулькина носа.
Пароль в предполагаемом отряде был «Земляк». Потом по этому поводу мои родственники, не зная, как пользоваться этим паролем, шутили, предлагая пойти в лесок и заорать: «Земляк, утри сопляк!» Пока отец пропадал после ареста НКВД, умерла от дифтерита сестра Милитина. Я тоже болел этой страшной болезнью, но, видно, снова рядом был мой ангел.
Во время оккупации отца опять арестовали. Теперь уже как партизана. Вместе с другими зуевцами. Арестовало гестапо. Как партизан. По доносу соседа Красова. Тоже отпустили. Помогла подруга моей тётки Веры, Саша, кажется, Гревцева, учительница немецкого языка, которую немцы сразу же после оккупации назначили переводчицей то ли в комендатуре, то ли в гестапо. Я больше склонен думать, что в гестапо. Потому что ей, всё-таки, удалось убедить начальство, что мужики не партизаны. Из комендатуры гестапо не убедишь. После освобождения наших мест Саша отсидела в лагерях, как положено было, свои десять лет, вернулась уже почти старухой. И жизнь у неё так и не получилась.
После освобождения, в феврале 1943 года, отца сразу же забрали на фронт. Было ему в то время 56 лет. Я поздний ребёнок. Маме было 36, отцу – 49, когда я возник.
Весной 1943, когда я лежал под святыми больной, в жару, без сознания, нас обокрал боец родной Красной Армии. Мама заперла меня, больного, под замок и ушла на колхозное поле. К тому времени наш председатель, потом – староста, потом – полицейский, потом, само собой, - ЗЭК, Семён Лаврентьевич, начал уже восстанавливать «Путь Ленина».
Доблестный красноармеец белым днём замок на нашей двери сломал и начал шуровать, собирая то, что для него было дороже. Почему он не обратил внимания на спящего ребёнка? Не знаю. Наверное, потому, что воры на детей никогда особого внимания не обращают.
Я пришёл в себя, когда он выволакивал две ковриги хлеба и мешок с барахлом. Я его окликнул. По сей день помню, как шёл этот защитник Отечества ко мне с растопыренными пальцами…Душить шёл…Но опять мой ангел был рядом. Солдат меня не задушил. Он просто поднял награбленное и ушёл.
Меня потом водили перед строем, чтобы я узнал мародёра. Я его не узнал. Ткнул наугад пальцем в кого-то. У того оказалось абсолютное алиби. От меня и отстали.
После освобождения везде по окрестным полям, где шли бои, валялось оружие и боеприпасы. Однажды мы обнаружили во рву мины от миномёта. Слышали, что их как-то удачно разряжают, выдёргивая из хвоста пороховой патрон. Мы сами этого делать не умели и стали колотить мины носом об камень, надеясь, что заряд от ударов сам вывалится из мины. Били мы мины носами об камень, пока издали не заругался на нас что-то из взрослых. Близко к нам наш спаситель подойти боялся. По всем законам мина должна была взорваться. И я должен был погибнуть. Но мой ангел спас меня и на этот раз.
А дальше началось самовоспитание. Маме заниматься мной было некогда. Задача упрощалась до минимума: меня надо было прокормить и как-нибудь одеть. Для этого надо было выращивать, что можно на огороде и в саду, а выращенное – продавать. Продавать можно было только в Дроскове. Весной продавалась овощная рассада, летом – огурцы, яблоки и груши, осенью – помидоры, зимой – квашеная капуста. А ещё была корова, овцы, куры…Мама продавала топлёное масло, которое застывало в тарелках жёлтыми дисками, куриные яйца. Когда подрос, я стал помогать. Но торгаш из меня не вышел…Яблоки или сливы я за время стояния на Дросковском райцентровском солнцепёке частью раздаривал, частью съедал сам…Торговля моя, таким образом, прибыли не приносила. А для выполнения крепкой мужской работы я пригодился лишь где-то после шестого класса.
Отец возвратился с войны в 45-м, в конце августа. Его сразу назначили в колхозе бригадиром. Но уже весной 46-го он слёг и пролежал до конца 52-го. Горшки, стоны, пролежни – заживо гниющее тело…Мама, конечно. Пыталась от этого меня огородить. Но для того, чтобы сохранить своё хозяйство, ей надо было работать ещё и в колхозе. У тех, кто не вырабатывал «норму», отрезали усадьбу «по окна». Работа в колхозе длилась «от темна до темна», потом работа дома. Так что огородить меня от ухаживания за больным отцом маме не удавалось.
Труд в колхозе очень долго не оплачивался вообще никак. Но налоги, тем не менее, платить было надо и деньгами, и натуроплатой. Надо, например, было сдать 300 литров молока, 150 яиц, 2 кг. шерсти со двора, независимо от того, есть у тебя корова, овцы и куры или их нет. Вместо натуроплаты можно было эквивалентно заплатить деньги. Но их ведь тоже безмужним военным бабам надо было где-то добыть.
Впервые после войны у нас выдали на трудодень по 250 граммов хлеба, кажется, в году 50-м. А до того работали бесплатно.
В колхозе я стал работать летом во время каникул после шестого класса. На лошадях. Возил зерно от молотилки. Возил зерно на осенний сев. Конными граблями «соскребал» по полю колоски. Бригадир – Ванька Косой – ставил меня «возить зерно на сев», чтобы его не воровали. Мне мужики воровать не предлагали никогда. Но наградили разрывом мышц брюшного пресса, заставив 14-летнего мальчишку самостоятельно выгружать 60-килограммовые мешки с бестарки да ещё таскать их к тракторной сеялке, и поднимать на неё, и высыпать…Три взрослых мужика, все – мои соседи, которые именно для такой работы и назначались, стояли вокруг и подгоняли меня, почти ещё ребёнка: «Быстрей, трактор простаивает…», надеясь, что я спасую и уйду с возки семян. Но я получил разрыв мышцы живота – брюшную грыжу, а бросить дело не подумал. Бригадир, слава Богу, догадался о происходящем и в тот раз снял меня с подвоза зерна к севу. Иначе они меня бы угробили совсем. Как бригадир потом справился с воровством, не знаю. А грыжа на животе осталась у меня на всю жизнь, как память о дорогих односельчанах: забудешь – напомнит…
Земляков своих с тех пор «люблю» до страсти…
В восьмом классе я впервые влюбился в дросковскую девочку, стал пропадать в ДК в Дроскове вместо работы на земле, и дорога в колхоз для меня закрылась навсегда.
Я стал активно участвовать в художественной самодеятельности в районном Доме Культуры, который и по сей день стоит в Дроскове (уже не стоит, разобрали его, а вместо старого ДК – с недавних пор новый возвели – А.П.): драмкружок, художественное чтение. Музыкальным слухом Господь меня не наградил.
Активно занимался спортом. Летом – лёгкая атлетика: спринт, прыжки, метания. Зимой – лыжи. Всегда – гири. Первый значок третьего спортивного разряда в районе получил я. Тогда третьих разрядов у меня было три: 100 метров, длина и лыжи. Первый второй разряд в школе и в районе по лыжам получил, кажется, внуковец Василий Кузин. Я до второго так и не добрался. А значок третьего разряда вместе с пиджаком у меня украли в Колпне, куда мы ездили ставить спектакль «Юность отцов» с коллективом ДК под руководством Константинова Демьяна Михайловича.
Наибольшее влияние на меня оказали учителя Дросковской школы: Фёдор Павлович и Фёдор Васильевич – физрук и военрук, Абрам Наумович Варшавский – литератор и Владимир Васильевич Блохин.
Первые два – тем, что общались как с равным. Это были друзья. Абрам Наумович в нашем классе не преподавал, но создал кружок и научил читать прозу и стихи со сцены.
После, когда я уже работал председателем районного комитета физкультуры, два Фёдора почему-то привлекли меня к свидетельству против Абрама. Но я позорно бежал, не приняв участия в судебном заседании, потому что надо было врать, а врать я не умел, хоть два Фёдора и учили, как это делать в суде…Абрам тоже учил. И тоже врать. Пришлось убежать. Убегать почему-то было страшно. Абрам тогда, выиграв суд, уехал куда-то со своими семью детьми. А с Фёдорами у меня отношения не испортились.
Председателем районного комитета физкультуры Дросковского района я работал плохо. Не умел и не знал, что и как делать. Фёдоры и некто Семенихин – председатель комитета ДОСААФ – потихоньку приучали пить…
Я сразу перетащил тумбочку с документами в кабинет директора ДК Константинова Д.М. и больше работал на ниве художественной самодеятельности, нежели физкультуры и спорта. Демьян Михайлович тоже был выпить не дурак. Однако какую-то часть спортивного бюджета мне удалось не пропить. Я тогда купил для школы первые лыжи и спортивные костюмы. Все, конечно, очень низкого качества. Купил ещё и штангу, которая «безвыездно» находилась в ДК. Потом пропала. В тот момент меня впервые избрали в бюро РК ВЛКСМ. Там мне удалось однажды отстоять от исключения из комсомола за пьянку одного агронома. Он меня клял потом всеми последними словами за мои благодеяния. Потому что пил именно для того, чтобы его выперли с работы, и он бы плюнул на нашу благословенную землицу, удирая от неё…Я, помогая ему остаться в комсомоле, помешал эти намерениям. Но агроном всё равно потом удрал.
Я не собирался вечно оставаться в родной деревне. На обязательном отъезде настаивала мама. Она почему-то не хотела повторения своей судьбы в моей. Я, всё-таки, уехал. Мой друг Юра Анненков остался. Он был секретарём РК ВЛКСМ. Женился. Закончил ВПШ. Работал зам.редактора Колпнянской районной газеты. Спился. И умер от водки. Останься я в деревне, думаю, кончилось бы чем-то похожим.
В 1955 году я уехал учиться в Сталиногорский Химтехникум в Московской области. Пока учился, Сталигорск стали называть Новомосковском и передали его во владения Тульской губернии.
Таким образом, я переделался из орловского дубинника не в москвича, как хотел, а в тульского «казюка».
Стихи я писал всегда. Всегда ощущал себя поэтом. Но серьёзной литературной работой занялся только после того, как приобрёл самостоятельность – самолично стал зарабатывать себе на хлеб и на штаны, то есть, в Туле.
В марте 1958 года я приехал работать на Косогорский металлургический завод между Толстовской Ясной Поляной и Тулой. На Толстовскую усадьбу мы ходили гулять.
Первое стихотворение опубликовал в районной газете Косогорского района «Социалистический труд» в августе 1959 года.
Первый рассказ «Сохатый» - в тульской областной газете «Коммунар» - годом позже.
Первую книгу – повесть «Лицом к огню» - издал в Приокском книжном издательстве в Туле в 1965 году.
Первый роман «Среди людей» напечатал в журнале «Октябрь» в 1970 году.
Собственно говоря, «Лицом к огню» тоже по жанру является романом. Должно быть, по юношеской скромности, я обозначил жанр как повесть.
Всего книг у меня издано девять: «Лицом к огню», «Среди людей», «Время моей любви», «Заводские повести», «Горящие барабаны», «Перед дальней дорогой», «Хранители огня», «Кричу и бегу» - это всё проза, в основном, романы и повести, кое-какие рассказы, и книга стихов «Под стон людской».
Написано больше. Трудно издать. Но надежды я не теряю…
Вся моя взрослая жизнь прошла в Туле.
Мне всё время казалось, что о родных Орловских краях я напишу, когда будет уже не о чем писать, испишусь. Но так вот пока не написал ничего, что напрямую касалось бы родного уголка земли. Больше всего от родины в детской повести «Горящие барабаны». Во многих книгах родина присутствует подспудно: то в именах героев, то в их происхождении, то в воспоминаниях и, наверное, везде – в характерах.
Что ещё? Закончил Литературный институт…
Женат. Двое детей. Четверо внуков. Дочь – журналист Елена Шулепова. Иногда вы её слышите по Российскому радио с сообщениями из Тулы. Писателем пока никто из детей не стал. Но, как мне кажется, все мои дети и внуки могли бы стать писателями лучше меня. Впрочем, кто знает, может ещё и станут?
В Дросковской школе я учился с 48 по 54 год.
Литературный институт Союза Писателей в Москве я закончил в 1972 году. Заочно.
В Союз писателей был принят в феврале 1971 года.
Остальное, как говорится, в книгах…
Тула. Июль 2001 года. Александр Харчиков».
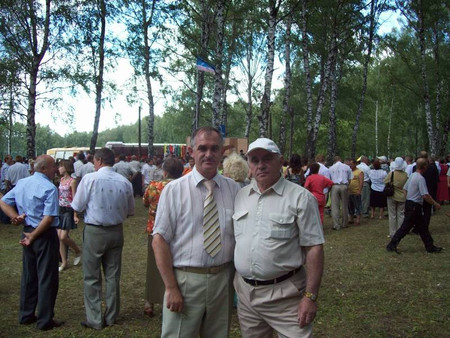
Александр Тихонович и автор
(на Дне Покровского района, июль 2009)
И приписка – для меня (Александр Полынкин)
«P.S. Жаль, что Вы не знаете моих произведений из книги «Кричу и бегу» или хотя бы повести «Стеша». Возможно, переменили бы мнение и о моей прозе… «Стеша» была напечатана в 8 номере «Подъёма» за 91 год.
А.Х.»
(Продолжение следует)
Нашли ошибку? Есть что добавить? Напишите нам: klub.mastera@yandex.ru
| 


